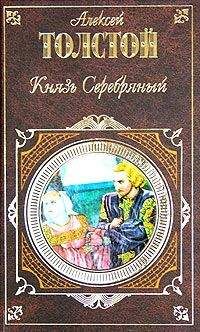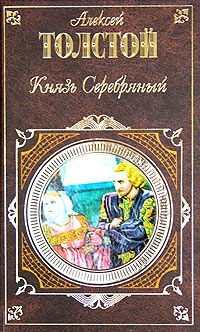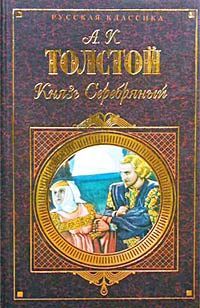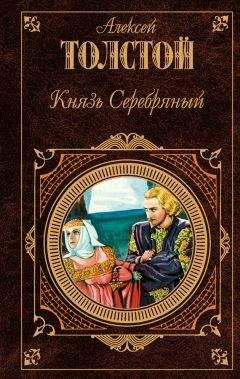Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]
Теперь о судьбах солдат. Они были в чём-то схожи, эти судьбы. Расскажу, что помню. Николай П. с товарищем, находясь на посту, привязали третьего караульного к столбу и ушли за границу, иногда оглядываясь на оставшегося, который безуспешно пытался вырваться и выплюнуть кляп. Беглецы попали в США, где им предложили военную или гражданскую карьеру на выбор. Николай выбрал военную, друг его мирную. Он и посейчас в США. Н. два года учился в школе ЦРУ, затем был заслан в Болгарию, где его и повязали. Срок — 12 лет. Это была личность неприятная, тёмная.
Его побаивались в лагере. Владеющий всеми приёмами дзюдо и карате, он с вечной усмешечкой на смазливом лице похаживал по дорожкам или играл в домино, и горе было тем, кто его обыгрывал. Одного он избил скамейкой едва не до смерти. За это Н. перевели в другой лагерь, только и всего. А вот солдат Г. границу перешёл, вернее, переплыл речку пограничную да оглянулся назад и не смог дальше идти. Так и вернулся сам на Русь — срок 10 лет. В лагерях он, как и Н., чиферил, дрочил, играл в домино, ругал жидов, слушал речи о великой России, на белом коне с белым мечом грядущей. Третий солдат — П., служил в ГДР и на машине, прорвав заслон, сквозь стрельбу и переполох помчался в американский сектор. Потом затосковал, решил вернуться и вернулся. Срок — 10 лет. Солдат К. бежал в Турцию, но не добежал. Срок — 7 лет, т. е. ниже низшего предела. Причина — удалось доказать на суде жестокость старшины, под началом которого К. служил. Был солдат, совсем мальчишка ещё, красавец, генеральский сын, он из германской группы войск, с товарищем пытался уйти на Запад. Их окружили, они залегли в сарае, четыре дня отстреливались, положили нескольких из нападавших. Их преследовали и советские войска, и гэдээровские. Товарищ того, о ком я говорю, в бою погиб. Наконец, атакующие ворвались в сарай, и советский капитан с пистолетом в руках бросился к Владимиру (так, кажется, его звали) с явной целью убить его. Он был взбешён и убил бы, но немецкий офицер грудью заслонил Владимира и не позволил совершиться убийству. Так и стоял, заслоняя его, пока всё не разрешилось, и не прибыли за Владимиром из ГБ. Срок — 14 лет. Владимир при мне начал только лагерный путь. Что с ним будет — Бог знает. Ясно, что лучшее своё — молодость — он потерял за решёткой. Отец отрёкся от него, приезжала к нему на свидание мать… Был ещё солдат, деревенский огромный парень, он ушёл из армии, стоявшей в Польше, добрался до Румынии, и здесь его выдала женщина, у которой он заночевал, скитаясь по деревням. Уже из лагеря он пытался бежать и к двенадцати своим годам трибунальным получил ещё два. Солдаты более всего находили общий язык с полицаями и шнырями (как называли ещё надзирателей). Это понятно — мундир сближает, а теперешняя пропасть между ними не слишком глубока. Мало ли что ударит в голову буйной русской натуре — сегодня с вышки в зека целиться, а завтра махнуть через кордон — и поминай как звали. Солдаты были главными сквернословами по лагерю. Двух слов они не говорили без этого великого подспорья человеческого общения на Руси. От них шли всякие лагерные присказки: «Ты тюльку не гони» или «Ты кончай дуру гнать», а также «Канай, канай отсюда. А девочка — ништяк, эй, мужики, не борзеть, пошли кайф ловить, засунь язык в жопу, гребаный твой потрох» и т. п. От всего этого качалось небо над вышками. А в общем — жалко ребят, блудных щенков России. Что им улыбнется теперь в их ломаной-переломаной жизни…
Но противнее всего были в лагере вчерашние уголовники. В своих бытовых лагерях, проиграв в карты грязную свою жизнь, они решались для спасения её перебраться в лагерь политических. Для этого писали на заборах что-нибудь грубо-антисоветское или даже листовку корябали такую же, а то ещё выкалывали на груди: «Раб СССР», «Раб КПСС» — и пожалуйста, их переводили к нам. Поскольку романтический налет ещё не сошёл с подлых профессий вора и грабителя, их принимали у нас с интересом. Они этим искусно пользовались. Были они поголовно стукачами, чаю доставали, по их выражению, столько, что «хоть жопой ешь», а и политический зэк к этому лагерному зелью неравнодушен — многие грешили пристрастием к завариванию. Короче говоря, уголовнички в политических лагерях устраивались неплохо. Они тоже распределялись по национальному признаку, хотя фюреры нацгрупп порою несколько стеснялись таких адептов. Вот например Н., настоящий орангутанг, украинцам доказывал, что он тоже за самостийную без москалей и жидов, гарную родину. Н. уже видом своим заставлял вспомнить о тюремной камере, вонючих нарах. Про таких правду говорят: «Кому тюрьма, а кому — мать родна» или ещё — «Кому тюрьма, а кому — горница». Конечно, в наших лагерях уголовникам приходилось отказываться от излюбленной карточной игры, да и гомосекс у нас не в чести, как и скотоложество, что, говорят, у бытовиков встречается, и лагерные кобылы у них к этому привычны. Страшно всё и омерзительно, но ведь есть в жизни, и нельзя про такое молчать. Проклятое биологически усеченное лагерное бытие до чего только человека не доводит! Уголовники вообще на воле не приживаются, это для них чужой край, а тюрьма — родимая сторонушка. А в тюрьме, то бишь в лагере, свои законы — и кобыла за жену сойдёт, и жизнь дешевле бубнового туза. Мне рассказывал один полицай, как после суда его везли вместе с урками. Ночью, лёжа на верхней полке, он поглядывал вниз на карточную игру. Один из урок проигрался вдребезги и поставил, наконец, на кон себя. Проиграл. Встал, медленно разделся догола и повернулся лицом к стене, спиной к людям. Трое поднялись с места, один вынул из кармана финку и уже нацелил её под лопатку голому, но тут не выдержал полицай, бросился с нар, заслонил обречённого, закричал, что не даст убить человека. «Тогда тебя замочим», — сказали ему. По счастью, набежали на крик менты, рассадили всех по разным камерам. Впрочем, проигранному обольщаться не стоило, долг за ним, а урки долгов не прощают. Проигрывают они часто и людей сторонних, и не только «на смерть», но и на педерастию. Вот что такое уголовник, и такова цена уголовной романтики.
Но не хочется кончать эти записи на такой ноте. Наши политические лагеря всё-таки иные. Добрая память о Балисе Гаяускасе, о Юрии Ивановиче Фёдорове, об Иване Ильчуке живёт во мне. А лес за заборами осенний, пёстрый, диктующий чуть не вслух стихи… Или весной — колючая проволока блестит, столбы отсырели, фонари сочатся. Ночной дождь в лагере… Ох, лагерь, лагерь, строки мои проштемпелёванные, запечатанные. Надзирательские свистки, окрики, собачий лай, тулупы и карабины на вышках. Охота смертная да участь горькая…
Этап
Когда меня втолкнули в карцер и дверь проскрежетала по-тюремному, я вспомнил слова Бориса Пэнсона, что каждый зэк должен посидеть в карцере, иначе это и не зэк. «Накликал, чёрт!» Ну ладно, на то и лагерь. Я не подчинился приказу начальника лагеря. Он велел разгрузить машину с опилками, а я был освобождён санчастью от погрузо-разгрузочных работ. Начальник был пьян, бледен и зол. «Ну, пойдём», — сказал он мне в ответ на отказ. «На пять суток его», — буркнул охране. Зэки в рабочей зоне провожали наше шествие любопытными взглядами. Дело шло к вечеру. Меня вывели из рабочей зоны и через весь лагерь повели в карцер. В помещении надзорсостава отняли ватник, шапку. И вот втолкнули в закуток. Три шага вдоль, полтора — поперек. Койка деревянная откидывается на ночь. Пенёк-столик и пенёчек-стул. Ни сесть, ни лечь. От окна холодом веет, от печки в стене — угаром. Книг, газет — нельзя. Даже бумагу на оправку дают не газетную. Еда через день. Что это — понял назавтра. Вечером дали мне ужин — кирзовую кашу и облезлый кусочек рыбы, кусочек черняшки, кружку кипятка, подкрашенного коричневой жижей. На ночь откинули доску. Постели не положено. Так и прокрутился всю ночь на доске от холода и угловатой неприютности голого дерева. Шныри заглядывали в камеру по-волчьему, топотали по бетонному полу в коридоре. Утром — скрежет, крик, топотание снова. На оправку, мытье — минуты три, не больше. «Нечего рассиживаться, не у тёщи в гостях». Сунули в кормушку тёплую воду, уже без жижицы и кусочек хлеба — грамм двести. Это на весь день. Вот тут и пахнуло голодом, слабо ещё, но заметно. Я тот день держался молодцом, сочинял стихи, мерил камеру шагами туда-сюда, писал строки пальцем на пыльном стекле оконца. Два стиха сочинил, вчертил в пыль и ходил дальше, поглядывая на них иногда. За оконцем зарешеченным весна набухала. Я это угадывал, а увидеть нельзя было, решётки плотные, тяжёлые мешали. К вечеру пришла голодная тоска. Мечтал о завтрашней миске баланды как о радости чудесной. Думал, как буду каждый глоток впитывать, вбирать в себя, радоваться следующему за ним, как хлеб стану по крошкам лелеять, каждую крупинку обсасывать. Ночью дерево доски стало чуть ли не роднёй, так устал за день ходить.